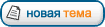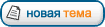Часть 3.
Развитие исследований магнетрона в УФТИСледующий этап становления Харьковского радиофизического сообщества был тесно связан с основанием УФТИ в 1928 году. Этот совершенно новый научно-исследовательский центр сильно повлиял на прогресс физики в СССР и стал лидером в нескольких областях передовой науки, особенно в области радиофизики и электроники.
Ключевую роль в организации этого института сыграл Ac. А. Иоффе, который тогда был директором Ленинградского физико-технического института (ЛФТИ). Он убедил правительство в необходимости частичной децентрализации советской науки и убедил, что Харьков, тогдашняя столица Украины, лучший выбор для новой крупной лаборатории. Вначале основными научными областями, изучаемыми в УФТИ, были физика твердого тела и физика низких температур, но вскоре он был ориентирована на исследования в ядерной физике [27].
Институт начал свою жизнь в 1929 году, в состав преподавателей вошли 14 ученых, в том числе директор проф. И. Обреимов, пришедший из ЛФТИ. Слуцкин и Штейнберг были в этом штате, все еще сохраняя свои должности в университете. Только в мае 1930 года основная группа ленинградских ученых из ЛФТИ прибыла в УФТИ.
Эти ученые, которые позже составили основу института, были из молодого поколения, привлеченные перспективными исследованиями и карьерными возможностями.Привлечение высококвалифицированных специалистов, впечатляющие средства, предоставленные правительством для закупки оборудования за рубежом, предложение лучших зарплат и служебных квартир, а также быстрое строительство лабораторных и жилых блоков привели к сокращению периода пуска.
Официальная церемония открытия состоялась 7 ноября 1930 года, в день революции, а первые фундаментальные результаты исследований были получены почти сразу же, в 1932 году.
Как писал Иоффе [30], с точки зрения организации этот институт был лучшим в СССР и имел хорошие связи со многими крупными центрами на Западе. С точки зрения исследований, он был наравне с лучшими физическими институтами Москвы и Ленинграда. Обреимову удалось установить активные контакты с западноевропейским научным сообществом. Эти контакты были признаны примером для всех научно-исследовательских институтов СССР. Самое необычное: регулярный журнал УФТИ опубликовывал все документы на немецком языке, чтобы облегчить их международное признание.
Благодаря этой открытости, за первые несколько лет существования УФТИ посетили ряд международных научных знаменитостей: Н. Бор, П. Дирак, П. Эренфест (рис. 4),Р. Пейерлс, Г. Плачек; и советские знаменитости: В. А. Фок, Г. Гамов, П. Л. Капица и др. Это добавило научный потенциал, уже накопленный в институте. Поэтому неудивительно, что 11 октября 1932 года - впервые в СССР - расщепление литиевого ядра было осуществлено в УФТИ. Позднее в том же году были получены жидкий водород и жидкий гелий. Это доказало, что Харьков превратился в один из важнейших центров физической науки.
Вложение:
 934901-fig-4-small.gif [ 92.21 KiB | Просмотров: 643 ]
934901-fig-4-small.gif [ 92.21 KiB | Просмотров: 643 ]
Рисунок 4.Сотрудники УФТИ во время визита П. Эренфеста в 1930 году. Во втором ряду слева направо:
П. Эренфест, И. Обреимов, Т. Афанасьева-Эренфест, А. Иоффе и Д. Штейнберг. Пятый слева, в заднем ряду, А. Слуцкин.
Н. Бор посетив УФТИ в 1934 году, оставил следующую запись:
Я рад получить возможность выразить свое восхищение и удовольствие, с которыми я увидел прекрасный новый физико-технический институт в Харькове, где отличные условия для экспериментальной работы во всех областях современной физики используются с наибольшим энтузиазмом и успешно реализуются под выдающимся руководством и в тесном сотрудничестве с блестящими физиками-теоретиками [27].
В 1932 году Обреимов предложил Льву Ландау, позже лауреату Нобелевской премии, занять пост в УФТИ. Ландау было всего 24 года, но он уже был мировой знаменитостьюв теоретической физике. С 1932 по 1937 год он возглавлял теоретический отдел УФТИ и активно участвовал в развитии института.
Помимо этого, он читал лекции в ХГУ, где он занимал кафедру теоретической физики [42].
Петр Капица (также лауреат Нобелевской премии) позже рассказал [43] о ряде основных работ Ландау, связанных с харьковским периодом: теории фазовых переходов второго рода, кинетическом уравнении в кулоновском взаимодействии частиц, теории промежуточного состояния в сверхпроводимости и некоторых других.
Это превратило Харьков в центр фундаментальной физики в СССР. Именно там Ландау организовал очередной теоретический семинар и начал писать - сначала с Л. Пятигорским, а затем с Ю. Лифшицем - знаменитый Курс теоретической физики. Он также инициировал «теоретико-минимальную» программу экзаменов для научных сотрудников УФТИ.
С. Брауде вспоминал:
Мне повезло встретиться с Ландау, когда он работал в УФТИ. Во-первых, как и многие другие исследователи, я сидел за экзаменом в теоретико-физическом курсе перед Ландау (были два варианта программы: один для теоретиков и один для экспериментаторов) и прошел два экзамена в «Механике» и «Статистической физике».
«Как известно, полный объем теоретического минимума состоял из девяти экзаменов, и в течение 30 лет только 43 человека смогли пройти все из них. Я должен отметить, что необычайная глубина физического мышления Ландау наряду с неформальной атмосферой экзаменов сделала теоретический минимум очень полезным и запоминающимся опытом для хорошо подготовленного кандидата, хотя оценки Ландау часто были критическими, ироничными , и вирулентными. Во-вторых, в 1935 г., участвуя в исследованиях магнетрона, я разработал метод решения задачи о влиянии магнитного поля на пространственный заряд. Ранее эта проблема сводилась к набору нелинейных уравнений. Я получил решение в квадратурах для планарной модели магнетрона и в терминах ряда для цилиндрической модели. Затем я обсудил этот результат с одним из ведущих теоретиков УФТИ Львом Розенкевич [44], который сказал, что решение было ошибочным. Я не согласился с ним и решил обсудить эту проблему с Ландау. Ему потребовалось всего 15 минут, чтобы углубиться в эту тему и получить те же результаты, что и я. После этого правильность решения никогда не оспаривалась [24].
Лаборатория электромагнитных колебаний (ЛЭМО) была создана как подразделение УФТИ еще в 1930 году и возглавлялась А. Слуцкиным. Это был единственный отдел, возглавляемый харьковским ученым, в то время как остальные восемь возглавлялись бывшими сотрудниками ЛФТИ.
Кроме того, это был единственный отдел, занимающийся электротехникой и электромагнитными волнами. Как мы увидим, оба обстоятельства сыграли определенную роль в том, что произошло в дальнейшем. В этот период Слуцкин исследовал механизмы и условия возбуждения расщепленных магнетронов и разработал теорию магнетронного генератора, работающего в режиме динатрона. Это, вместе с передовым техническим оборудованиемуфти, позволило ученым лаборатории расширить работу по генерации мощных колебаний в L-диапазоне. По словам Усикова, Слуцкин пользовался чрезвычайно высокой репутацией как инициатор совершенно нового метода в науке: магнетрона.
В лаборатории общие и теоретические исследования были выполнены самим Слуцкиным, а ряд конкретных проблем был изучен сотрудниками [22].
С. Брауде:
Слуцкин был моим учителем, когда он читал лекции по электродинамике в ХГУ, где я учился. При его личной поддержке я был направлен в УФТИ по окончании учебы.
Вместе мы опубликовали серию работ, в основном по теории магнетронных колебаний. Следует отметить, что он лично
руководил всеми исследовательскими проектами своих сотрудников и каждый день обсуждал полученные результаты. Кроме того, Брауде рассказывает [24], что в то время, когда он начал работать в лаборатории, в 1933 году, они интенсивно изучали все теоретические и экспериментальные аспекты генерации электромагнитных колебаний дециметрового и сантиметрового диапазонов волн. К 1933 году группа, состоящая из А. Усикова (рис. 5), П. Лелякова, Ю. Копиловича и Н. Вышинского разработала многосегментно-анодные магнетроны в диапазоне 20-80 см с выходной мощностью непрерывного излучения 30-100 Вт. В 1934 году результаты этих исследований были опубликованы [45], [46]. Это были параметры чемпиона в то время: мощность CW магнетрона в ваттах была равна длине волны, измеренной в сантиметрах. Исследования магнетрона, направленные на повышение мощности и частоты, продолжались. Брауде участвовал в этой работе в качестве инженера вместе с Павлом Лельяковым, который был ведущим специалистом лаборатории, и занимал пост старшего научного сотрудника. Лельяков внес важный вклад в проекты магнетрона и радара, но его судьба была драматичной.
В отличие от своих коллег, он остался в Харькове, когда тот был занят нацистами. Как вспоминал Брауде, Леляков уже
выступал против советского режима до войны (хотя это было очень опасно), и поэтому для его коллег такое решение не было неожиданностью. В августе-сентябре 1941 года А. Слуцкин, находясь в командировке в Москве, неоднократно с директором УФТИ обсуждал эвакуацию лаборатории в Центральную Азию и обратил внимание директора на Лелякова. Позже Брауде наткнулся на бумаги, изданные Леляковым в технических журналах США, но после 1962 года он потерял его след[24].
Вложение:
 934901-fig-5-small.gif [ 181.95 KiB | Просмотров: 643 ]
934901-fig-5-small.gif [ 181.95 KiB | Просмотров: 643 ]
Рисунок 5.Александр Ю. Усиков (1948).